- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Природа межэтнических конфликтов
Анализируя историю последних столетий, можно определить их как вехи развития цивилизации. Так, если XIX в. — это век территориальной экспансии, создания колониальных империй, XX в. — век идеологической экспансии, противостояния антагонистических идеологий, то XXI в., вероятно, будет веком этнодемографической экспансии.
При этом этнодемографическую экспансию можно понимать как стремление к власти этносов с высокой демографической продуктивностью (наглядная иллюстрация — захват исконной сербской территории Косова албанцами).
И территориальная, и идеологическая, и этнодемографическая экспансии сопровождаются столкновениями, борьбой за ресурсы, неизбежно перерастая в конфликт.
Конечно, в основе такого рода конфликтов лежали и лежат экономические интересы противоборствующих народов и государств, но вид конфликта, его камуфляж часто оказывает серьезное влияние на характер и динамику поведения народов.
Традиционно под экспансией понимается прежде всего территориальная экспансия и установление военно-политических сфер влияния.
Нельзя сказать, что такой вид экспансии исчерпал себя, поскольку территория по-прежнему является выгодным долгосрочным приобретением — как «жизненное пространство», носитель сырьевых, энергетических и людских ресурсов, военно-стратегический и экономический плацдарм, пространство для размещения промышленных мощностей или технических отходов, сельскохозяйственные угодья.
Сегодня в мире немало реальных и потенциальных конфликтов, квалифицируемых как пограничные и территориальные споры, и проблем с определением статуса территорий (одностороннее изменение Турцией толкования соглашений 1936 г. о статусе черноморских проливов; возникающее напряжение вокруг богатств
Антарктиды, откуда, несмотря на существующие соглашения, исподволь вытесняется Россия). В будущем, по мере развития ресурсного кризиса, то есть по мере значительного повышения стоимости выживания государства и его титульного этноса, весьма вероятно возвращение в мировую политику жесткого варианта территориальной экспансии.
Однако в настоящее время экспансия имеет другие измерения: информационное, культурно-историческое, религиозное, этническое, политическое (сюда следует отнести и целенаправленное политическое давление вплоть до международных санкций) и особенно экономическое (во всех его видах — финансовом, товарном, технологическом и т. д.), которое и является стержнем современной экспансии.
Понимаемая широко, она имеет немалые отличия от своей территориальной разновидности.
Во-первых, если территориальная экспансия носила, как правило, ступенчатый (пространственное расширение США в XIX в.) и нередко однонаправленный характер (знаменитое правило Бисмарка для Германии: не воевать на два фронта), то сегодня экспансия — это непрерывный процесс, нацеленный на множество объектов и порождающий в результате столкновения интересов целый комплекс разноплановых конфликтов.
Во-вторых, сегодня «мирная» экспансия осуществляется многими государствами и их группировками по отношению друг к другу одновременно, поэтому можно говорить об их взаимопроникновении, или, иными словами, об образовании комплекса взаимозависимостей и противоречий.
В-третьих, ранее внешнюю экспансию осуществляла одна держава или недолговечный союз государств. Ныне сосуществуют внешняя экспансия устоявшихся или новых экономических и экономико-политических группировок и экспансия внутри самих этих группировок.
В-четвертых, внутрикоалиционная экспансия периодически сопровождается «добровольными» взаимными уступками сторон, хотя общий ее баланс, конечно, благоприятен для сильнейших из них.
Нынешняя политика мирового сообщества весьма сложна: конфликты и противоречия сосуществуют с координацией действий и сотрудничеством.
Одна группа противоречий (например, экономических) между странами или группами стран «уравновешивается» настоятельной необходимостью кооперации в другой сфере (безопасности). Одновременно имеются как противоречия, так и кооперация и внутри отдельных групп государств.
Совпадение позиций и интересов государств ведет к образованию и укреплению экономических и экономико-политических группировок и зон интеграции — Европейский Союз, НАТО, Содружество Независимых Государств.Взаимодействие разных по направленности и силе экспансий, с одной стороны, и результаты разноуровневого и разнопланового сотрудничества — с другой, в совокупности определяют состояние такого феномена, как баланс сил субъектов политики.
Важно подчеркнуть, что этот баланс — не равновесие, а лишь соотношение сил, причем соотношение динамическое, зависящее от изменения всех определяющих его элементов.
Динамичность баланса означает, что любые перемены во взаимодействии его слагаемых (вызванные, например, геополитической переориенгацией от «западноцентризма» на Восток даже ослабленной ныне России) способны существенно повлиять на расстановку сил и очертания геополитической карты планеты, и в этой ситуации приоритетное значение приобретает возможность воздействовать на политику и даже целостность государства через этнические элиты, особенно национальных меньшинств.
Тем самым придается дополнительный импульс как росту этнонационализма среди нацменьшинств, его дальнейшему перерождению в сепаратизм (в случае компактного проживания маргинальных этносов), так и нарастанию национализма извне (в случае, если национальные меньшинства имеют свое государство по другую сторону границы).
Ответной реакцией на это может стать всплеск национальных чувств титульного этноса, тем более что нередко альтернативные интересы руководителей маргинальных этносов сводятся к элементарным территориальным требованиям.
Питирим Сорокин подсчитал, что за двадцать четыре века истории человечества на четыре мирных года приходится один год, сопровождающийся насильственными действиями — войнами, революциями, бунтами, которые считаются социальными конфликтами.
Социальные конфликты обычно разделяют на следующие группы:
- политические — борьба за власть, доминирование, влияние, авторитет;
- конфессиональные — борьба за право исповедовать ту или иную религию;
- социально-экономические — борьба «между трудом и капиталом»; например, между профсоюзами и работодателями;
- межэтнические — борьба за права и интересы этнических общностей.
Принципиальный вопрос понимания специфики межэтнических конфликтов — это вопрос об их связи с самим феноменом этничности: являются ли конфликты между этносами сущностными, заложенными в этническом многообразии человечества, или они сугубо функциональны?
Если считать истинным первый подход, то тогда сербов и албанцев, ингушей и осетин, арабов и евреев, армян и азербайджанцев следует признать «несовместимыми».
Если исходить из второго подхода, то надо сделать вывод: не этничность составляет суть таких конфликтов, она лишь форма их проявления. Так, молдаване говорят, что у них нет конфликта с русскими или украинцами, это просоветский режим сопротивляется в Приднестровье.
Чеченские события многие считают не межэтническим конфликтом, а криминальным переделом собственности. Просто в конфликтных ситуациях обнажаются противоречия, которые существуют между общностями людей, консолидированными на этнической основе.
Далеко не в каждый конфликт бывает вовлечен весь этнос, это может быть его часть, группа, которая ощущает или даже осознает противоречия, ведущие к конфликту.
В реальности мы встречаемся со взаимопроникающими конфликтами, каждый из которых составляет питательную среду для другого.
Неслучайно даже специалисты-конфликтологи часто не могут прийти к единому мнению о том, с каким конфликтом они имеют дело — с межэтническим в политическом камуфляже или наоборот.
Межэтнические конфликты множественны по своей природе. Исследователи предлагают самые разные их классификации.
По целям, которые ставят перед собой вовлеченные в конфликт стороны, межэтнические конфликты можно подразделить на несколько категорий:
- социально-экономические, при которых выдвигаются требования гражданского равноправия (от прав граждан до равного экономического положения);
- культурно-языковые и конфессиональные, при которых выдвигаемые требования затрагивают проблемы сохранения или возрождения функций языка, культуры, религии, этнической общности;
- политические, если участвующие в них этнические меньшинства добиваются политических прав (от автономии местных органов власти до полномасштабного конфедерализма);
- территориальные — если в их основе лежат требования изменения границ, присоединения к другому («родственному» с культурно-исторической точки зрения) государству или создания нового независимого государства.
‘ Кроме целевого подхода, природу межэтнических конфликтов можно рассматривать с точки зрения структурных изменений в обществе как основы противоречий, приводящих к конфликтам.
Этносоциологи считают, что в основе межэтнической напряженности лежат процессы, Связанные с модернизацией и интеллектуализацией народов.
Эти процессы привели к тому, что в престижных видах деятельности нарастала Конкуренция между титульными и другими этносами.
Иллюстрацией Может служить позиция русских в бывших республиках Советского Союза: у титульных этносов этих республик к концу 1970-х гт. не только сформировалась полиструктурная интеллигенция, но и сложились новые ценностные представления, в том числе о самодостаточности и важности большей самостоятельности.
Такие представления и ценности не совпадали с теми, которые были у русских в этих республиках. Большинство из них приехали туда с установкой помогать месткому населению (что делали раньше их родители), а следовательно, они и ощущали себя по статусу выше титульных этносов.
Этот подход акцентирует внимание на том, что на определенном историческом этапе происходят изменения в потенциале этнических групп, претендующих на привилегированные, престижные места, в том числе во власти; изменяются и ценностные представления групп.
Подобная ситуация сложилась ранее (к 1970-м гг.) в Европе, когда менялась диспозиция в положении валлонов и фламандцев в Бельгии; в Канаде, когда франко-канадцы стали догонять по социальному и экономическому потенциалу англо-канадцев.
Такая ситуация может сохраняться достаточно долго после заявления претензий на изменение, до тех пор, пока центральная власть сильна.
Если же она теряет легитимность, как это было в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг., то появляется шанс не только высказать претензии, но й реализовать их. Дальнейшее развитие событий — эскалация или свертывание конфликта — во многом зависит от состояния центральной власти.
Как результат политического насилия следует рассматривать социальное и экономическое неравенство, конкуренцию на рынке труда, земли и жилья, которые зачастую перерастают в межэтнические конфликты.
Такова природа ферганских (1988), душанбинских (1990), ошских (1991) и других подобных событий. При этом чаще всего этническая общность, «подвергшаяся нападению», выступала в роли козла отпущения.
В СССР переход к демократизации, сопровождавшийся борьбой старых и новых политических элит, привел к тому, что эта борьба в полиэтническом обществе «приобрела этнополитнческую окраску».
Обострение этнополитических конфликтов вызывали неумелые, непоследовательные шаги по преобразованию государства в реальную федерацию, делались попытки силой остановить дезинтеграционные тенденции в республиках (тбилисские события 1989 г., бакинские — 1990 г., вильнюсские —1991 г.).Некоторые конфликты рассматриваются уже как следствие распада Союза ССР, когда в отделившихся республиках в борьбу «за свою долю политического и территориального наследства» вступили бывшие автономии или желавшие получить автономию (Абхазия и Южная Осетия в Грузии, ставшие незвисимыми в 2008 г., Приднестровье и Гагаузия в Молдове, Нагорный Карабах в Азербайджане).
При этом нередки случаи ложного этнического конфликта, когда реальные конфликты интересов между этническими группами отсутствуют, но тем не менее возникают самые тяжкие последствия.
Так, например, ученые не смогли объяснить, почему летом 1988 г. погромам подверглись именно турки-месхетинцы, а не другие этнические меньшинства, населявшие Ферганскую долину.
Статьи по теме
- Основные принципы и фазы урегулирования конфликта
- Проблемы, связанные с урегулированием кризисной ситуации
- Стадия вооруженного конфликта
- Стадии и фазы развития политического конфликта
- Конфликты в анклавных рынках труда
- Способы адаптации мигрантов
- Конфликтогенность трудовой миграции
- Некоторые особенности поведения мигрнтов
- Специфика этнического терроризма
Полезные статьи







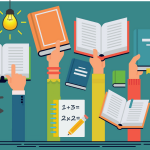

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

